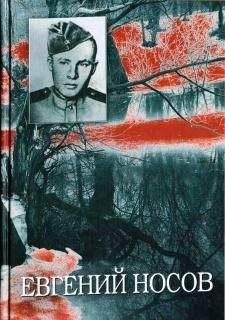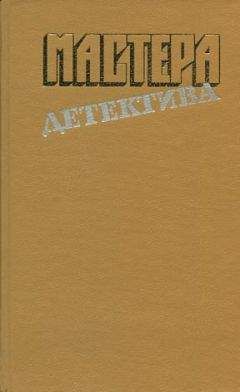— Э-э, робятки, негоже наперед робеть! Поначалу оно завсегда: не сам гром стращает, а страховит неприятельский барабан. А уж коли загремит взаправду, то за громом и барабана не слыхать. Сколько кампаней перебывало — усвятцы во все хаживали и николь сраму домой не приносили. Вам-то уж не упомнить, а я еще старых дедов захватил, которые в Севастополе побывали и на турок сподабливались. Оно ить глядеть на нашего брата — вроде и никуда больше негожи, окромя как землю пластать. А пошли — дак, оказывается, иньше чего пластать горазды.
И опять, засмеявшись, крутанул крепко:
— Гибали мы дугу ветлову, согнем и вязову… А щас пока гуляйте! Давыдушка, улей, улей, попотчевай чем ни то.
И сам тоже выпивши на равных, посопев сморщенным носом, похватав воздуху, хлопнул Касьяна по плечу:
— Все мы тут не таковские, а уж кто середь нас природный воитель, дак это Касьянка. Не глядите, что помалкивает, попусту не кобенится.
— Ты уж сказанешь, Селиван Степаныч,— зарделся Касьян и непроизвольно подобрал под скамью галоши.— С чего выдумал-то?
— А с того, что знаю.
— Я дак из ружья птахи и то не стрелил…
— Это пустое, что не стрелил,— несогласно мотнул головой Селиван.
— Дак тади откуда быть-то мне?
— А вот быть, Касьянка, быть. Нареченье твое такое, браток. Указание к воинскому делу.
— Какое такое указание? — и вовсе смешался Касьян.
— А вот сичас, сичас я тебе все как есть раскрою…
Дедушко Селиван, и вовсе развеселясь, опять полез в свой шкафчик и, оживленно покхекивая, воротился к столу с толстой и тяжелой книгой, обтянутой порыжелой кожей.
— Сичас, сичас, голубь, про то почитаем. Про твое назначение.
При виде книги мужики подтянули поближе скамейки, с нетерпеливым интересом, как малые дети, изготовились слушать неслыханное. Всякая книжица, даже школьный букварь, вызывала к себе в Усвятах почтение, а эта, обряженная медными бляхами и застежками, ненашенских времен и мыслей, уже одним своим обликом заставила всех подобраться, а сбитый с толку Касьян даже пригладил волосы, как делал это всегда при встрече пришлого человека, перед неведомым.
В полной тишине дедушко Селиван с усилием разломил надвое книгу, опахнувшую лица сидевших слежалым погребным ветерком старины, и, отвалив несколько ветхокофейных страниц, нацелил палец в середину листа.
— Ага! Вот оно! — объявил он, обретя и сам подобающую благостность.
— А ну-ка…— заерзали мужики.
Отстранясь и подслеповато сощурясь, дедушко Селиван начал ощупью лепить слова по частям, и от этой их разъятости звучали они торжественно и значительно, будто произнесенные свыше:
— Наре… нареченный Касияном {20} да воз… возгордится именем своим… ибо несет оно в себе… освя… щение и благо… словение божие кы… подвигам бран… ным и славным…
Старик остановил палец и вопрошающе взглянул на Касьяна: усвоил ли тот сказанное?
— А исходит оно… из пределов гре… греческих… из царств… осиянных великими победами… где многия мужи почи… почитали за честь и обозначение пла… планиды называть себя и сынов своих Касиянами… ибо взято наречение сие от слова… касс… кас… сие… кассис… разумеющего шелом воина… воина великаго и досто… славнаго императора Александра Маке… донскаго… и всякий носящий имя сие суть есьм непобедимый и храбрый шле… мо… носец.
Дедушко Селиван отнял от книги палец и ликующе вознес его кверху:
— Уразумел? Шлемоносец! Во как толкуется имя твое! Выходит, сызмальству тебе это уготовано — шлем носить.
— Чего напишут-то…— растерянно усмехнулся Касьян.— Сызмальства я гусей с теленками пас. Да и теперь за лошадьми хожу.
— Теленков-то ты пас, а шелом тебя, стало быть, еще с той поры дожидался.
— Ну дак все правильно! — хохотнул Давыдко.— Пойдешь днями, наденут железну каску — вот тебе и шлемоносец! Все как есть сходится.
Мужики посмеялись такому простому резону.
— Погодите, погодите! — остановил их дедушко Селиван.— Каску на кого хошь можно напялить. И на козла, и на барана. Не в каске суть. Ты вот думал, что ты Касьян да и Касьян, ан ты вишь какой Касьян. Вон как об твоем имени сказано: «Ибо несет оно в себе освящение…— понял? — …и благословение к подвигам». Во как! Это не важно, что ты птахи не стрелил. Наука невелика, обучишься. Но ежели тебе уготовано, ты, и не стрелямши ни в ково, можешь такое сотворить, что и сами враги удивятся и воздадут хвалу и честь твоим подвигам, хотя и понесут от тебя урон и позор великий.
Касьян уже не перечил, а только сидел, нагнув голову, в усмешке терпеливо снося свалившееся на него стариковское празднословие.
— Вижу, парень, не веришь ты этому,— продолжал свое дедушко Селиван.— Дескать, пустое мелется. Ась? Тади давай зайдем с другого конца. Вот скажи, кто есть Прошка наш, Прохор Иваныч?
— Как кто? — пожал плечами Касьян.— Ну, председатель.
— Так, председатель. Верно. А мог ли он об этом знать, что будет председателем, когда вот так, вроде тебя, теленков мальчишкой пас?
— Дак откуда ж ему…
— Тоже правильно. Не мог он этого знать. Нарекли его мать с отцом Прохором, бегал по Усвятам этакий конопатенький ушастый пащенок, ничего не знавший о себе, тем паче наперед. Так?
— Ну так, ясное дело.
— А теперича давай заглянем в книгу…— Дедушко Селиван полистал, пришептывая: — Прохор… Прохор… отыщем Прохора… {21} Ага! Вот он! Ну-кось, как тут про него? — И снова перестроив голос на высокий лад, зачитал: — Смысл нареченья зело пригож… ибо разумеет собой… песно… песноводи… теля… во славу Господню. А составлено сие имя… как всякое зерно… из двух равно… равновеликих долей благозвучнаго грецкаго речения… в коем одна доля «хор» означает совместное песнопение… тогда как другая доля «про»… на оном наречии понимается как старший… А совместно сии доли… воссоединясь в оное имя… означают старшаго над хором, запевнаго человека… сиречь запевалу.
И опять дедушко Селиван поучительно воздел палец:
— Запевный человек? Ну дак ясно, Прошка наш во славу божию песен не поет, он партейный, книга-то не нонешняя, не теперь писанная. Но суть совпадает — запевала! Всей усвятской жизни голова!
— Н-да! — удивились мужики.— А гляди ты, верно ведь!
— А ну-ка, Селиван Степаныч,— заинтересовался Леха,— читани-кось, чего там про меня сказано?
— Дак и про тебя пошукаю. Сичас и про Лексея…
Дедушко Селиван снова потеребил страницы, поперекладывал их туда-сюда и, отыскав нужное место, сперва побубнил про себя, а потом уж дал короткое разъяснение:
— Про тебя, милок, тут такое сказано, што Алексей — это вроде как защитник {22}. Так вот и написано: заступник отечества, всех страждущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей божиих.
— Ишь ты! — Никола Зяблов восхищенно посмотрел на Махотина.— И Леха наш, оказывается, в большом звании. Гляди-кось: защитник отечества! Высо-о-окая, Лексей, у тебя должность!
Махотин остался доволен таким истолкованием.
— Дак теперь давай и про Зяблова,— засмеялся он.— Кто есть таков? А то вместе пьем-курим, а что за прыщ — незнамо.
— Вот и про Николу… А Никола у нас…— готовно провозгласил дедушко Селиван,— Никола, стало быть, так: победитель! {23} Вот как!
Мужики поворотились к Николе Зяблову, сидевшему босо и без рубахи.
— Ух ты, едрит тя в кадушку с обручами! Вот это дак Никола! Вот это дак чин!
— Что ж ты, Николка, в Усвятах-то ошиваешься? — пуще всех хохотал Давыдко.— Тебе бы в портупеях ходить, а ты доси в одной майке бегаешь.
— Ладно вам,— конфузливо осерчал Зяблов.— Шутейное это все. Для смеху писано.
— А может, и не шутейное. Вон про нашего Прохор Ваныча в самую точку. Как влито. Поди, старые люди чегой-то да кумекали, когда писали.
Прочитали и про Афоню-кузнеца {24}, и выходило по-писаному, что и Афоня не просто так, как ежели б какой лопух на огороде, а тоже назван куда с добром: не боящийся смерти! И уже как-то иначе поглядели мужики на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухожильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает, может, его и взаправду никакая поруха не возьмет…
— Не-е, братцы! Чтой-то в этой книжице есть! — блестя глазами, воскликнул Леха.— Видать, не с бухты-барахты писана. Дак и так рассудить: человек зачем-то да родится. Не токмо за сарай бегать. Небось потому и прозвище ему дается с понятием, чтоб, стало быть, направить его на что-то такое, окромя пустого счета дням…
Мужики один за другим потянулись к невиданной книге. Обтерев о штаны лопатистые ладони, глянцевевшие мозольно-сухой кожей, в застарелых, набитых землей трещинах, от которых не могли распрямляться полностью, а лишь складывались пальцами в присогнутые ковши, они бережно и неловко брали книгу обеими руками под кожаный испод, как принимали по вечерам, придя с работы, грудного младенца, не научившегося еще держать головы. И так же бережно, с почтительной предосторожностью, опасаясь учинить поруху, сделать что-нибудь не так, перекладывали ее алтарно пахнущие листы, вглядываясь в причудливо-кружевные заглавные буквицы, расцвеченные киноварью и озеленевшей позолотой. И даже пытались сами разобрать и постичь мудреные строки, но, пошевелив сосредоточенно и напряженно губами и произнеся раздумчиво-протяжное «н-да-а…», охранно передавали ее другому. Было диковинно оттого, что их имена, все эти Алексеи и Николы, Афони и Касьяны, такие привычные и обыденные, ближе и ловчее всего подходившие к усвятскому бытию — к окрестным полям и займищам, осенним дождям и распутью, нескончаемой работной череде и незатейливым радостям,— оказывается, имели и другой, доселе незнаемый смысл. И был в этом втором их смысле намек на иную судьбу, на иное предназначение, над чем хотя все и посмеялись, не веря, но про себя каждому сделалось неловко и скованно, как если бы на них наложили некую обязанность и негаданную докуку. Так бывало еще в детстве, когда матери, обрядив на праздник в новую рубаху, наказывали не мараться, блюсти себя в чистоте, и хотя на душе делалось радостно и приятно от этой обновы, но в то же время, бегая на народе, надо было все время помнить родительский наказ и часом не выпачкать рубаху. И теперь тоже мужики были негаданно озадачены этой обновой, иным значением своих расхожих имен, как будто все они были одеты в новые рубахи перед скорой дорогой и надо было там блюсти себя и не замараться.